
Обложка романа «Круть»/Из открытого доступа
Романы Виктора Пелевина появляются по расписанию — ежегодно на излете лета или в начале осени. 2024-й не стал исключением. Новая книга «Круть» в России (и на «Литрес») вышла 3 октября, а скоро доберется и до Казахстана. События романа происходят в далеком будущем, но проблемы писатель поднимает или вечные, или актуальные. Среди прочего речь в «Крути» идет о борьбе феминизма с традиционализмом, пышном расцвете тюремной культуры в России, «новом средневековье» и мироощущении войны. Qalam global прочитал «Круть» и делится впечатлениями.
Действие последних книг Пелевина неизменно происходит в мире победившей (ну, практически) глобализации, где элиты обретают бессмертие в виртуальной реальности, а реальность естественная давно оказалась чем-то вроде неблагополучного спальника на окраине мегаполиса. Заправляет всем предоставляющая услуги вечной жизни корпорация «Transhumanism INC». Именно в ней трудится сотрудник службы безопасности Маркус Зоргенфрей, уже знакомый читателю по «Путешествию в Элевсин» (2023). Виртуальному спецагенту вновь предстоит спасать мир, стоящий на пороге Апокалипсиса. Дело в том, что древний дух войны Ахилл вот-вот воплотится в человеке, чтобы захватить Землю и установить на ней свои порядки.
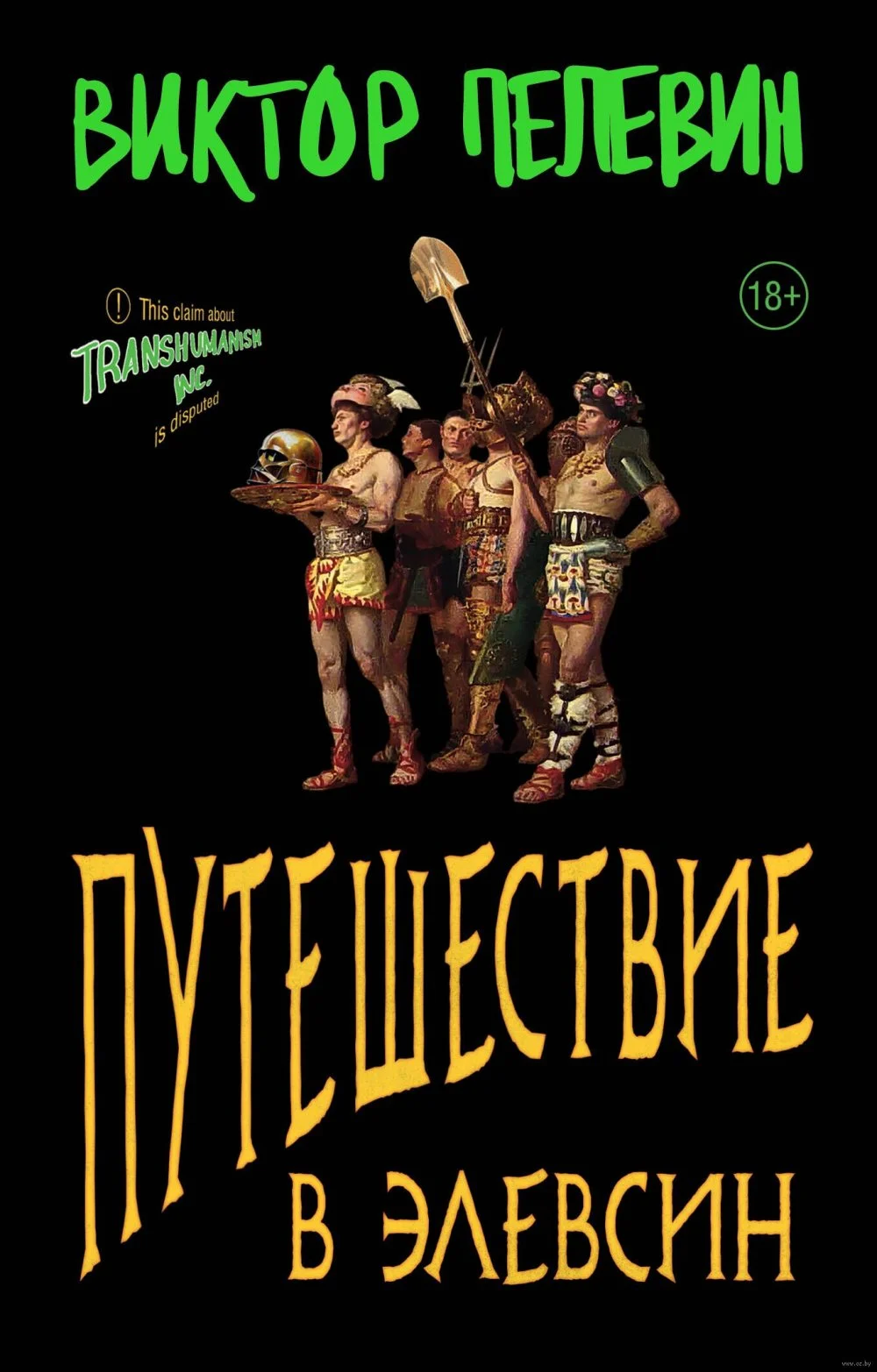
Обложка книги Пелевина «Путешествие в Элевсин»/Из открытого доступа
Довольно быстро Зоргенфрей и его начальник адмирал-епископ Ломас выясняют, что сподвижника демона следует искать в пенитенциарном учреждении на севере Сибири. А затем узнают, что спасение мира зависит от феминистки-мстительницы Варвары Цугундер. Загвоздка в том, что Цугундер считалась умершей уже несколько сотен лет как. Похоронили легендарную «фему», похоже, преждевременно, и Зоргенфрею нужно во что бы то ни стало добраться до нее. Сыщику придется договариваться с идеологическими противниками из сердобол-большевистской партии Доброго государства (очередной вариации тоталитаризма в России). Найти потерянную главу из книги пещерно-консервативного писателя Шарабан-Мухлюева. Наконец, расследовать историю его болезненных романтических отношений с литературоведкой-феминисткой Рыбой.

Виктор Пелевин. Япония. Токио. 30 октября 2001/Владимира Солнцева/ИТАР-ТАСС
Блестящая обертка фантастического детектива — не самоцель. В апокалиптическом калейдоскопе «Крути» закрутилось приблизительно все — от эпохи динозавров, «Илиады» и христианства до малопривлекательного тоталитарно-капиталистического будущего. Главный герой — наблюдатель с почти неограниченными возможностями. «Относительно живая» камера, которая фиксирует размашистый авторский миф (или цикл мифов).

С. Боттичелли. Венера и Марс. ок. 1483 года/he National Gallery, London/Wikimedia Commons
Одно из первых открытий романа: ад существует. А в прошлом находился непосредственно на Земле. Источник информации спорный — нунция Римской Мамы (феминизм, напомним, победил) мать Люцилия, которая и предупреждает Ломаса с Зоргенфреем о неумолимо надвигающейся катастрофе. В видении ее сестрам по вере открылся ад. Выглядел он, впрочем, не канонично: «Напоминал влажные горячие джунгли, пахнущие гнилью и распадом. А его обитатели походили на древних ящеров до полной неразличимости». Следом Иисус Христос спускается в ад и уничтожает его. Является Сын Божий в облике… метеорита. То есть, земной ад — это мезозой, показанный как пространство непрерывного взаимного пожирания, борьбы за выживание и размножение. Дух Ахилл — жаждущий реванша экс-правитель этого приятного места.
Так роман «Круть» заявляет, что помимо субъективного зла есть и абсолютное.
Оно заключено в определенном строе мира: это особый род его восприятия и модель взаимоотношений с реальностью. В точке, где они активируются, зло пробуждается и начинает распространяться. Договор духа Ахилла с человеком включает условие — последний становится почти бессмертным, но должен выбрать единственного противника, могущего его убить. Так у известного древнегреческого воителя роковым врагом был «тот, кто наставит рога спартанскому царю». Если герой все же погибнет, дух переселится в убийцу.
Пелевин изобретательно переписывает Гомера. Троянский конь якобы был скульптурой динозавра, которую демон Ахилл создал по образу и подобию своего прежнего туловища. Парис, Елена и Менелай работают в союзе друг с другом и с древними суфиями. Измена и Троянская война разыграны специально, чтобы обезвредить демона, заточив его в темницу — в тело натренированного духовными практиками Париса. Именно он — не боец, но влюбленный — оказывается у Пелевина главным героем «Илиады».

Сандро Боттичелли "Суд Париса". Приблизительно между 1485 и 1488 годами/Palazzo Cini Gallery, Venice/Wikimedia Commons
Переселение демона войны из поверженного в победителя — демонстрация легкости, с которой спаситель превращается в тирана, а пострадавший — в агрессора. «Военные отношения» заразительны. Зло распространяется вирусно, выстраивая в недавнем борце с ним или жертве собственную инфраструктуру.
Эта же тема становится основой еще одного вполне мифологического сюжета. Теперь действие происходит в современном Зоргенфрею будущем. Пелевин перекодирует две актуальные темы — глобальную (феминизм) и локальную (тюремная культура). Российское публичное поле и повседневная среда густо напитаны блатными представлениями. Писатель не без дерзости переворачивает иерархию. Дело в том, что в «светлом будущем» граждане (похоже, всего мира) оказались чипированы. Искусственный интеллект смог «корректировать проявления токсичной маскулинности на церебральном уровне». В результате женский пол сделался «доминантным», а любой даме оказалось по силам без особых проблем отметелить качка.
В тюремной среде, соответственно, произошло стремительное возвышение «петухов», ставших новыми авторитетами. Один из главных героев «Крути» Кукер — как раз такой царек, гордо восседающий в «петушином» углу и помыкающий остальными зэками. Статус «петуха» подразумевает свои правила, манеру поведения и властные атрибуты, вроде шпор (стилеты из высокопрочного пластика, вживляющиеся в ноги) для дуэлей с другими «петухами».

Винсент ван Гог Прогулка заключённых. 1890/Пушкинский музей, Москва/Wikimedia Commons
Впрочем, их жизнь на зоне не безоблачна, ведь среди заключенных женщин есть «фемы-заточницы», убивающие мужчин (в идеале — как раз «петухов») при помощи заточенных «нейрострапонов». «Практически все высокоранговые куры в уголовной иерархии Добросуда являются заточницами», — поясняет Пелевин. Вне мест заключения, однако, мужчины «дивного нового мира» тоже не могут чувствовать себя в безопасности. Ведь некоторые наиболее радикальные феминистки практикуют «пайкинг» — убийства по половому признаку при помощи холодного оружия фаллической формы, именуемого в честь прославленной феминистки «цугундером». Она, как считается, совершила 96 гендерных убийств в рамках «своей борьбы».
Во вселенной «Крути» угнетение «угнетателей» — распространенное явление.
Став первыми, «последние» тут же принялись воспроизводить поведенческие модели, от которых еще недавно страдали сами. О том, что общественная иерархия несправедлива, как выяснилось, можно запамятовать, когда сам попадаешь на вершину. Насильник и жертва с театральной легкостью меняются ролями (противостояние Кукера и «фемы-заточницы» Дарьи Троедыркиной — яркая иллюстрация). А инфраструктура зла только укрепляется. Вирус распространяется с бойкостью омикрона.
Блатной мир и радикалы, жаждущие «праведного» возмездия, у Пелевина смотрятся перерождением эпохи рептилий. Тонкая пленка высоких технологий едва прикрывает вечный мезозой. «Ему хотелось слиться с великим могуществом, которое он ощутил, сделавшись частью мезозойского мира. Он встал перед бытием не раком, а динозавром, и в этом импровизированном ритуале, как в танце фиванского гоплита, сливались огненные зовы эроса и ледяное дыхание смерти» — так Пелевин описывает чувства Кукера, оказавшегося внутри симуляции доисторического мира. Питательная для зла почва — тотальная беззащитность существа перед смертью, которая следует за ним тенью и в любой момент грозит его поглотить. Агрессия активирует страх смерти, который, в свою очередь, укрепляет агрессию — вечный двигатель на топливе человечьей уязвимости и обещания силы. Именно этими условиями пользуется дух Ахилл, подбирающий новую жертву.

Борис Голополосов. Человек бьется головой о стену (Психологический сюжет). 1936–1937/ tretyakovgallery.ru
Повествование раскачивается неторопливо. Первая половина «Крути» выглядит как чрезвычайно затянутый пролог. Но потом начинается история трудной любви писателя-консерватора Шарабан-Мухлюева с литературоведкой-феминисткой Рыбой. И тут роман наполняется воздухом — отрывается от земли, увлекая за собой читателя, который вообще-то уже не надеялся взлететь. Этот последний и главный миф книги «теплокровен» — жизненно противоречив. Восхитительно смешные в своей нелепости зум-атаки обнаженного Шарабан-Мухлюева на псевдо-либеральных собеседниц Рыбы чередуются с тонко описанным психологическим насилием. А за монологом крайне сомнительного рассказчика следуют комментарии Зоргенфрея, где слышится авторская речь — непривычно прямая и подкупающе простодушная. Во второй части «Крути» Пелевин раскачивает читателя как заправский манипулятор.
Изливая душу, Шарабан-Мухлюев размышляет о нео-варварстве (порой, кажется, он замечает его проявления и в себе, но спешно открещивается от неудобной мысли). Пишет о римской базилике, где восседает племенной вождь: «Гуннский кишечник, справляющий торжество своей нужды на римском форуме, завернувшись в реквизированную тогу. Вот это и есть Новое Средневековье, встречающее нас везде». Здесь говорится о подавлении и поглощении смысла чужеродной силой, что приводит к несоответствию формы и содержания. В результате случается неизбежное коммуникационное искажение — верный атрибут войны, в пространстве которой живая подлинность субъектов подменяется образами «своих» и «врагов». Война — оголение жизни до механики выживания, форма анти-коммуникации, подобная игнорированию собеседника. Ее непременный спутник, дезинформационный шум — иллюзия, прикрывающая глухую тишину неспособности к разговору.

Пабло Руис Пикассо “Свидание” (Объятие) 1900/ Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Драматичный роман идеологических врагов Шарабан-Мухлюева и Рыбы, не случайно принимающий BDSM-формы, интересен именно столкновением любви и войны. Пелевин остроумно «варваризирует» «Мастера и Маргариту»: героиня вышивает «возлюбленному» шапочку с литерой «М» («мизогин»). «В общем, между мной и Ры была стена взаимного непонимания», — признается «мастер». Неготовность принять друг друга и по-настоящему сблизиться, сквозящая в исповеди, ведет ко все большему извращению коммуникации. Эффектная метафора этого — перепутанное писателем «стоп-слово» «Янагихара», которое приводит к «катастрофе» — и очередному копированию жертвой модели агрессора.
«Инженер человеческих душ — это человек, способный понять, что никого, кроме потерпевших, на нашей планете нет… Что должен сделать инженер? Помочь мне снова полюбить людей», — рассуждает Маркус Зоргенфрей о профессиональном поражении Шарабан-Мухлюева.
Но прежде всего, конечно, о борьбе не с «врагом», но с самой инфраструктурой зла — о необходимости остановить распространение вируса на своем участке пространства. «Под ногами у нас была не твердь, а присыпанная песком черная дыра. Но понять это можно было, только закрыв глаза и вслушавшись в тишину… “Янагихара! – закричал у меня в голове дрожащий женский голос. — Янагихара!”» — а это будто бы уже не слова спецагента Зоргенфрея. Да и не похоже, что они доносятся из воображаемого будущего. Слишком громко. И слишком близко.


